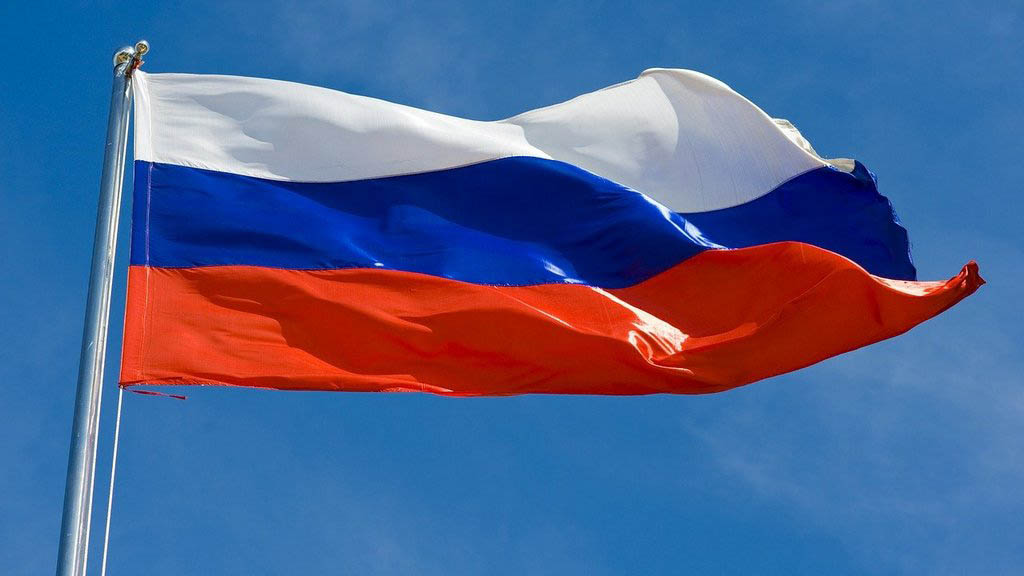Специалист из Барнаула стал заслуженным врачом России
13:44, 30 июня 2024г, Медицина 414
Фото Андрей КАСПРИШИН
«Пришлось бы делать выбор заново – снова выбрал бы эту профессию. Здесь у меня семья, друзья, любимые коллеги. Вся жизнь», – говорит анестезиолог-реаниматолог Павел Коваленко из врачебной династии. В краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 он работает четверть века. На днях президент РФ подписал указ о присвоении ему звания заслуженного врача России.
Двести лет на всех
– Павел Георгиевич, всегда интересно знакомиться с семьями, несколько поколений которых выбирают одну профессию. Расскажите о своей.
– Дед мой Антон Петрович Коваленко – подполковник медслужбы. В 1939 году он окончил Военно-медицинскую академию, с первых дней Великой Отечественной воевал в составе 5-й танковой гвардейской дивизии. Участвовал в Донбасской операции, обороне Кавказа, освобождении Одессы, Туапсе, Белграда, Вены, Праги. Награжден орденами и медалями. Я не застал его, он умер после войны от ран. Бабушка Клавдия Андреевна была операционной медсестрой. Врач – отец Георгий Антонович. В 1965-м они с мамой приехали на целину, в Казахстан. Там, в Целинограде, мы с братом родились и мединститут окончили. Алексей – анестезиолог-реаниматолог краевого противотуберкулезного диспансера. В медицине и наши жены. А моя дочь – студентка 4-го курса АГМУ.
– Если сложить годы, отданные семьей профессии, сколько получится?
– Не считал специально, но, думаю, лет двести…
– Почему большинство анестезиологов-реаниматологов мужчины?
– Скажу за себя. Во-первых, мне хотелось продолжить дело отца, главного анестезиолога Целиноградской области. Мне всего 16 было, когда он погиб в ДТП. Во-вторых, специальность интересная, развивающаяся. И мужская, на мой взгляд, наряду с хирургией или травматологией. Слава богу, Россия хранит традиционные ценности. В оперативной медицине востребованы физическая сила, выносливость, волевые качества, ведь очень часто, спасая жизнь человека, мы с коллегами принимаем экстренные решения. У нас много дежурств, в том числе ночных. Столь жесткий график женщине сложно совмещать с заботой о семье, о детях. Но она незаменима в медицине там, где требуются деликатное и милосердное отношению к пациенту, скрупулезность в выполнении назначений. От одного ее присутствия пациентам, особенно мужского пола, легче становится. Неслучайно ведь образ сестры милосердия – это духовное наполнение нашей профессии.
Золотой час
– Может быть, до вас дошли дедовы истории фронтовой медицины? Про эфирный наркоз, например, который капали примерно, на глазок, потому что наркозных аппаратов не было….
– Моей бабушке доводилось это делать. При таком способе персонал и сам получал немалую дозу наркоза, психическое и соматическое состояние было тяжелым. Очень хорошо помню эти неприятные ощущения – в начале моей практики аппараты были еще несовершенными. Старшие коллеги рассказывали, как анестетик через кожу выделялся, запах был такой, что окружающие старались подальше от них держаться. Я еще застал многоразовые иглы для катетеризации вен, которые мы сами затачивали, и старые громоздкие системы для внутривенных вливаний…
Медицина принципиально стала другой на рубеже XXI века. И международный обмен технологиями этому способствовал, и наша экономика, освоившая выпуск продукции медицинского назначения: от одноразового инструментария до аппаратуры слежения и мониторов экспертного уровня. Все это серьезно помогает моим коллегам в работе.
– Все передовое приходит в гражданскую медицину из фронтовой. Эту мысль я встречала и в «Дневнике хирурга» Александра Вишневского, и в воспоминаниях легендарного барнаульского врача Чеглецова. Почему?
– Главное в военное время – обеспечить выживаемость государства. Вылечить и вернуть в строй раненых. Как правило, молодых людей в состоянии геморрагического или травматического шока, которым требуется экстренное восстановление жизненно важных функций, возмещение кровопотери во фронтовом госпитале и далее на следующем этапе. От военных врачей к нам пришло понятие золотого часа – первых 60 минут после ранения, в течение которых шансы на спасение высоки, а риски осложнений минимальны; или метод внутрикостной трансфузии, используемый, если внутривенный невозможен.
– То есть после СВО медицина сделает еще один шаг вперед?
– Прогресс – это результат осмысления прожитого опыта. Он требует масштабного метаанализа. Новые знания, полученные военврачами, будут систематизированы, войдут в систему подготовки врачей и, вероятно, коснутся организации медицинской помощи.
– Можно ли по картине заболеваемости судить о состоянии общества?
– Мы имеем дело с различной основной и сопутствующей патологией, в основном – острыми хирургическими заболеваниями брюшной полости. По сравнению с 90-ми в разы меньше стало ножевых и огнестрельных ранений, что говорит о высоком правопорядке. Сейчас в структуре общей патологии это статистически незначимый процент. Люди научились ценить свое здоровье, курение и употребление алкоголя уже не считается крутым в молодежной среде. В моде – здоровый образ жизни. Думаю, сказалась просветительская работа врачей, власти, СМИ. Профилактическая медицина должна стать приоритетом, ведь лечить, как известно, сложнее, чем предупредить.
Во многих точках бытия
– Как относитесь к рассказам прошедших через реанимацию людей про свет в конце тоннеля и голоса?
– Побывав в состоянии клинической смерти, пациент после успешной реанимации и восстановления высших психических функций может рассказывать про тоннель – это универсальная, в общем, реакция нейронов коры головного мозга на так называемую летальную триаду – гипоксию, ацидоз, гиперкапнию. Сознание человека фиксирует детали транспортировки в операционную, голоса медиков и световые ощущения – именно об этом люди говорят после операции.
– Вы человек верующий?
– Мои друзья, побывавшие на СВО, говорят: на фронте атеистов нет. Знаю, что у каждого опытного врача случались ситуации, когда спасти пациента было невозможно без помощи высших сил. Но он выживал вопреки неблагоприятному прогнозу. Да, я православный. Хотя главное, называет ли человек себя верующим или атеистом, чтобы в жизни он следовал общечеловеческим ценностям, не нарушал их. С религиозными они совпадают во многих точках бытия.
– Все хотят жить долго, но никто не хочет быть старым. Думаю, с ростом продолжительности жизни человека и работа врача стала сложнее.
– Да, достижения медицины позволили людям жить дольше. Но больше стало и пациентов пожилого и старческого возраста. Во взрослых отделениях интенсивной терапии и реанимации, например, их большинство, так как у них сложнее протекает постоперационный период, им требуется самое деликатное и скрупулезное отношение медперсонала.
– Понятно, что в такие отделения легкие больные не попадают, каждого вытягивать приходится. А если, несмотря на все усилия, не получается спасти человека? Можно ли к такому привыкнуть?
– Если есть хоть малый шанс спасти, мы будем бороться за его жизнь, выполняя весь комплекс интенсивной терапии, принимая решения коллегиально. В одиночку в нашей работе нельзя: слишком высока цена ошибки. И если вдруг, несмотря на все старания, у нас не получилось… Невозможно к этому привыкнуть. Но есть опыт и прогноз, опираясь на который врач может просчитать вероятность положительного исхода. Депрессивный фон не способствует работоспособности и уверенности доктора в своих силах. Это очень деликатная тема. Но в ней как в жизни: делай что должно, и будь что будет. Радует, что молодые наши коллеги не с нуля начинают, а на базе, созданной до них старшими товарищами.
– Нынешних студентов преподаватели вузов часто называют жертвами ЕГЭ. Что можете сказать о выпускниках АГМУ, которые приходят сейчас в медицину?
– Это особая сфера, к ней нельзя относиться легкомысленно, она требует полной отдачи. Начнем с того, что поступить в медуниверситет очень непросто. Строгие педагоги, сам учебный процесс формируют в будущем враче чувство ответственности за выбранное дело. Мне, к примеру, в свое время повезло стажироваться на кафедре анестезиологии и реаниматологии АГМУ. Сейчас параллельно работаю на кафедре хирургических болезней детского возраста. Совмещаю практику с преподаванием в симуляционном центре медвуза и вижу дисциплинированных ребят с серьезным настроем на постижение профессии. Заведующий нашим отделением Роман Владимирович Киселёв привлекает на работу именно таких молодых специалистов. В этом году, например, троих ждем.